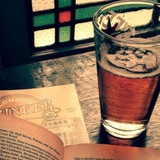Вот так живешь-живешь, думаешь, что ты не такая, что твои академические интересы модные и современные — гендерные исследования там, постструктурализм, анархистская антропология, современные теории демократии...
А потом сидишь, читаешь, как греческие мужики в тогах друг друга диссили, и ничего больше в этой жизни и не надо.
(Цитата из публичной декламации Плухарха против Эпикура «Хорошо ли изречение: “Живи неприметно”», прочитано перед неизвестной аудиторией. Оно, разумеется, и запланировано быть манипулятивным и софистическим произведением — высказывание Эпикура было в первую очередь политическим (свободный гражданин полиса остается в прошлом, подданному империи с меньшими политическими свободами нужны новые этические координаты) и не было обращено ко всем, а только к тем, кто хотел жить философской жизнью, где философия — это метод для достижения независимости, внутренней свободы, состояния, в котором Я зависит только от самого себя. Всего этого Плутарх не мог не знать, но тем не менее, он обрушивается на высказывание Эпикура как на опасный универсальный совет. В конце Плутарха разрывает совсем уж поэтично — ему как платонику сравнение души и света очевидно, но для материалиста Эпикура, у которого душа — это просто частицы, оно не имеет никакого смысла, и это уже не этический, а метафизический конфликт, фундаментальное несогласие об устройстве самой сути бытия. Есть здесь и еще одно интересное различие: Плутарх — скорее философ в более современном смысле, он занимается философией и делает философские высказывания, а Эпикур — философ именно в античном понимании, то есть тот, кто живет философской жизнью).
А я полагаю, что и самая жизнь, и, шире, существование и причастность к рождению даны человеку божеством для известности. Он — незрим и неведом, носимый во всех направлениях в виде рассеяных мелких частиц, но когда рождается, то, сгущаясь в себя и обретая размеры, начинает светиться, становясь из незримого зримым и из невидного видимым. Ведь рождение — это путь не к существованию, как утверждают иные, а к известности о существовании. Ведь оно не творит рождаемого, но лишь выявляет его, равно как и разрушение сущего не есть устранение в небытие, а скорее увод в незримое распавшееся на части. Вот почему солнце, считая его, по древним и исконным обычаям, Аполлоном, называют Делосским и Пифийским, а господина потустороннего мира, кем бы он ни был, богом или демоном, называют, как если бы, распадаясь на части, мы переходили в невидимое и незримое состояние, «властителем незримой ночи и ленивого сна». Я думаю, что и самого человека древние называли «светом» именно потому, что каждому, в силу родства, присуще неудержимое желание узнавать и быть узнанным. Да и саму душу некоторые философы считают, в сущности, светом, доказывая это, среди прочего, тем, что из всего существующего душа больше всего тяготится безвестностью, ненавидит все смутное, и приходит в смятение от темноты, полной для нее страха и подозрений, зато свет для нее так сладостен и желанен, что без света, во мраке, ее не радует ничто из вещей, по природе своей приятных, но, примешиваемый ко всему, словно приправа, он делает радостным и отрадным всякое наслаждение, всякое развлечение и утеху. Тот же, кто ввергает себя в безвестность, облекаются мраком и заживо себя погребают, видимо, тяготятся самим рождением своим и не хотят бытия.
Ну, скажите, весело же.
>>Click here to continue<<